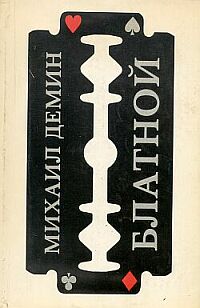Мы переехали!
Ищите наши новые материалы на SvobodaNews.ru.
Здесь хранятся только наши архивы (материалы, опубликованные до 16 января 2006 года)
 |
|
19.1.2025
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Полвека в эфире. 1969Цикл подготовил и ведет Иван Толстой Иван Толстой: Послевоенная история устами нашего радио. На календаре сегодня 69-й год, его главная тема - литература и идеология, материалов на эту тему скопилось на архивных полках множество. Вероятно, самым громким событием литературно-идеологического плана стал побег советского писателя Анатолия Кузнецова, автора "Бабьего Яра". Кузнецов попросил в Англии политического убежища. Начинает тему наш лондонский комментатор Виктор Франк. Виктор Франк: Как известно, несколько дней тому назад, советский писатель Анатолий Кузнецов объявил в Лондоне о своем решении не возвращаться в Советский Союз. Английское правительство разрешило ему постоянно проживать в Англии. Мне приходилось и приходится встречаться со многими людьми, которые по самым благородным соображениям решили порвать с советским строем и остаться на Западе. И я знаю, как трудно им дается приспособление к иной атмосфере. Именно, к атмосфере. Ибо, конечно, разницу между жизнью в советском обществе и жизнью на Западе нельзя сводить к разнице между злом и добром, между минусом и плюсом. Дело здесь неизмеримо сложнее. И одно из отличий состоит, как бы это сказать, в разнице между атмосферным давлением в Советском Союзе и за границей. В советском обществе и атмосферное давление, и сила земного тяготения несравненно выше, чем на Западе. Постараюсь пояснить мою мысль. Человек, в особенности, человек умственного труда, живущий в Советском Союзе, непременно живет напряженнейшей жизнью. У него есть, кого бояться, есть, кого ненавидеть, есть, кому доверять, есть, кому не доверять, есть кого любить. У него есть возможность одерживать небольшие победы и терпеть большие поражения. Русский философ Владимир Соловьев как-то сказал, что в России много мерзавцев и немало святых, но вот приличных людей маловато. На Западе же, конечно я сознательно упрощаю, и мерзавцев, пожалуй, меньше, и святых или героев меньше, а вот приличных людей больше. Это тоже снижает напряженность, сгущенность атмосферы или снижает температуру. Вероятно, это лучше. Но, во всяком случае, это огромная разница, к которой нужно приспособляться в течение длительного периода, иначе человек может оказаться в состоянии рыбы, выброшенной на берег.
Иван Толстой: Теперь - микрофон самому виновнику событий. Это первое выступление Кузнецова по Свободе. Анатолий Кузнецов: Я дошел до такой точки, после которой я уже не мог работать. Не мог писать. Это для меня единственное занятие в жизни, которое по-настоящему меня захватывает. Жить и писать - для меня это одно и то же. Мне неинтересно так жить. Мне не то, что неинтересно, я так просто не могу жить. И я понял, что еще немножко, и либо я присоединюсь к тем, кто уже сидит в лагерях, вроде Синявского, Даниэля - мало веселого в этом, и главное, писать там опять не сможешь, - либо я сойду с ума. Это совершенно точно, я не преувеличиваю. Последние года два я провел в совершенно безвыходном, тяжелом состоянии. Вот я и бежал. Я писать буду только на русском языке. Уже у меня не так много времени, чтобы в совершенстве овладеть другим языком, например, английским, чтобы рискнуть писать на нем художественные произведения. Я слишком большие требования предъявляю, вероятно. В России может изменяться в ту или другую сторону политический климат, в России может, как я это определяю для себя, дверь открываться шире или захлопываться наглухо, или может разразиться катастрофа типа сталинских чисток. Все возможно. Но дело в том, что я лично не верю в сам принцип коммунизма. Отвергаю его, начисто отвергаю. Я считаю, что это еще одно прекрасное, доброе намерение, которым была вымощена дорога в ад, причем эта дорога была вымощена на много километров, и еще неизвестно, сколько километров впереди. Я уходил из Советского Союза - как зверь инстинктивно спасается от стихийного бедствия. Я ни о чем не думал, это было спасение... Ой, ребята, ребята, это фантастично, это представить себе невозможно, какое это все-таки счастье: наконец говоришь то, что ты хочешь. И теперь мне хочется жить здесь долго, долго, назло им, назло, как можно дольше, сколько мне отпустит жизнь. И писать. Иван Толстой: 69-й год. Кузнецов в те годы был далеко не единственным невозвращенцем. В столице соседнего государства, в Париже, незадолго перед тем политическое убежище попросил другой писатель, Михаил Демин.
Михаил Демин: Самое главное, что меня поразило, - это ощущение на Западе такой свободы, благодаря которой человек, переезжающий из одной страны в другую, не чувствует себя ни отщепенцем, ни беглецом. Скажем, человек из Австрии, переехавший в Италию, не чувствует себя в Австрии забытым. Иван Толстой: Михаил Демин - писатель полузабытый. Его вышедший на Западе роман "Блатной" распродан в эмиграции, а в России никогда не переиздавался. Настоящее имя Михаила Демина - Георгий Евгеньевич Трифонов, он двоюродный брат писателя Юрия Трифонова. Отец, военачальник в Красной Армии, арестован в 1937-м. 16-летним подростком во время войны Демин был посажен в первый раз, затем был на фронте, после войны учился в художественном институте. Когда вскрылась его судимость, бежал и жил среди блатных, ездил вором по железным дорогам, совершил убийство, шесть лет отсидел. Вышел, писал стихи, прозу, стал членом Союза писателей, печатался. Во время туристической поездки во Францию попросил политического убежища. 69-й год. Михаил Демин у нашего микрофона. Блатные интонации, как мы слышим, до конца не вытравляются.
Михаил Демин: В Париже вокруг моих знакомых и вокруг моей родни бесчисленное количество было всяких испанцев, итальянцев, они, в сущности, всю жизнь живут в Париже и тем не менее, не теряют родины. И вот меня поразило то, что только из России уехавший человек чувствует себя отрезанным от нее навсегда. Он ощущает потерю, такую, как если бы, скажем, человек перелетал бы с одной планеты на другую, и за его спиной оставалось бы колоссальное пространство пустоты. Такое ощущение, когда нельзя вернуться, когда ты навсегда что-то теряешь. Странно, что это относится именно к России. Ни к одной другой стране мира. Русский, уехавший оттуда испытывает такое ощущение потери, которое не испытывает больше никто. Иван Толстой: Еще один невозвращенец - беглец через Чехословакию и Югославию, Аркадий Белинков. Студентом Литературного института был приговорен за свою дипломную работу к расстрелу. Отсидел 13 лет. Вышел, написал и напечатал книгу о Юрии Тынянове, имевшую грандиозный общественно-литературный успех. Несколько лет пробивал в издательстве вторую книгу - о Юрии Олеше. Когда стало окончательно ясно, что издать ее в СССР не удастся никогда, бежал на Запад. Здесь Белинков преподавал в Йельском университете, сотрудничал со Свободой, готовил к изданию свои рукописи. В нашем архиве - запись белинковского выступления, сделанная у него дома в Нью-Хэвене. Чувствуется, что условия не студийные. Аркадий Викторович читает вступление к американскому изданию книги об Олеше.
Аркадий Белинков: Я ничего не меняю в тексте, написанном и частично напечатанном в Советском Союзе. Нехитрая вещь для свободного человека, живущего в свободной стране: вместо строчки "свобода, которую принесла революция, была, по-видимому, не совсем тем, что для революционной интеллигенции казалось революция обещает" написать так: "Революция уничтожила свободу людей и установила тоталитарную диктатуру". Я не делаю этой нехитрой вещи, потому что я хочу, чтобы мои читатели знали, что я никогда не написал и не напечатал в Советском Союзе ни одной советской строки. Любую из своих строк, написанных в Советском Союзе, я без стыда могу напечатать в свободном мире. Я жил в стране-застенке и писал то, что хотел писать. Меня или сажали в тюрьму или не печатали, или печатали, вырывая страницы, главы, куски сердца. Но ни одной строки угодной им, удобной им, они не смогли заставить меня написать. На Западе я пишу то же, что писал в России. На моем письменном столе ничего не изменилось. Изменилось лишь то, что здесь я могу печатать вещи, которые на моей родине остались бы в письменном столе или попали бы на стол следователю. Я не уезжал из русской литературы - я перешел на работу в другое место. На новом месте можно сделать гораздо больше для дела свободы, чем в стране, где этому делу сильно мешают редакторы и милиционеры, цензоры и пожарники, секретари, председатели, представители, консерваторы, агитаторы, провокаторы. Ничего не изменилось. Я перенес пишущую машинку из своего кабинета в Москве в свой кабинет в Нью-Хэвене. О советском фашизме на Витни Авеню я пишу с той же гадливостью, с какой писал о нем на Малой Грузинской. Это вопрос технологический, где лучше работать, то есть бороться с диктатурами, деспотиями и тираниями. Приношу благодарность органу правления Союза писателей СССР "Литературной газете", которая на этот раз, уникальный в ее постыдной истории, написала правду: "Теперь с нами и Аркадий Белинков, - передала радиостанция "Свобода"". "С вами, господа, с вами, - захныкала "Литературная газета". И, спохватившись, добавила: "Только почему теперь? Он всегда был с вами". Я всегда был с вами. С первой строчки, которую я написал в первой своей книге. Я всегда был с теми, кто ненавидит черный, коричневый, желтый и красный фашизм и борется с ним. Иван Толстой: 69-й год. В Советском Союзе появился бунтовщик, замолчать деятельность которого власти не в состоянии. Академик Андрей Сахаров, как утверждают, - отец советской водородной бомбы. Его нравственный протест против самоубийственного развития военных технологий выливается в философские размышления, с которыми в СССР не знают что делать. Иностранные отклики на идеи Сахарова. С обзором - Юрий Мельников. Юрий Мельников: Профессор Маршал Шулман, видный американский политолог, директор Русского университета при Колумбийском университете в посвященной манифесту Сахарова статье в еженедельнике "Сатердей Ревю" писал: "Этот документ важен и интересен не новизной изложенных в нем идей, а тем фактом, что он был написан ведущим советским ученым, который сформулировал идеи, широко распространенные в кругах советской научной и научно-технической интеллигенции. Андрей Дмитриевич Сахаров - русский патриот, лояльный по отношению к советской власти и советскому социализму. А что касается независимости его мышления, то она делает его стране больше чести, чем 10 космонавтов, хотя, - прибавил Шулман, - боюсь, что аппаратчики смотрят на это не так". Это было написано в конце прошлого года. И, конечно, уже тогда было ясно, что аппаратчики на самом деле смотрят на политическую концепцию Сахарова не так. Весь вопрос был в том, посмеют ли они тронуть этого академика, крупнейшего физика, отца советской водородной бомбы. Что ж, посмели. Если верны сведения, поступившие на днях из Москвы, то Андрей Дмитриевич Сахаров освобожден от обязанностей главного консультанта государственного комитета по ядерной энергии, а также отстранен от работы в научно исследовательском институте в Черноголовке под Москвой. Конечно, академик Сахаров - не первый представитель советской научной интеллигенции, ставший жертвой воинствующих догматиков, и ничего неожиданного нет в их поступке по отношению к нему. И все же удар против этого ученого имеет особое, почти уже символическое значение, сравнимое только с делом Солженицына. Подвергнув Сахарова каре, наследники Сахарова перед глазами всего мира признались, что между правящей кастой КПСС и советской научной и научно-технической интеллигенцией существует конфликт антагонистического характера. То, что они идут на этот конфликт, идут теперь, в начале последней трети 20 века показывает, что они брошюру Сахарова либо не читали, либо не поняли до конца. Ибо если бы они ее поняли, им бы стало ясно, что жизнеспособность и будущее только у такой власти, которая сумеет заручиться активным сотрудничеством научно-технической интеллигенции. Больше того, будет прислушиваться к ней, освоит в общении с ней научные методы и научится применять их в деле управления государством. Живя же в глубоком конфликте с этой интеллигенцией, власть, раньше или позже, обрекает сама себя на гибель. Иван Толстой: 69-й. Из больших событий, имеющих эпохальное, культурное значение, что может быть важнее космических достижений? Человек на Луне. Виктор Франк: "Земляне на Луне". Под таким заголовком "Правда" сообщила в прошлый вторник о блестящем прилунении американских космонавтов. Я думаю, что не одного меня порадовала установка органа ЦК КПСС к достижению американцев. И особенно хорошо то, что редакция "Правды" назвала американских космонавтов землянами. То есть представила их не как граждан государства, у которого с Советским Союзом, выражаясь мягко, свои особые счеты, а как сограждан по планете Земля. Вряд ли меня можно будет упрекнуть в излишней язвительности, если я выражу предположение, что высадись первыми на Луне не американские, а советские космонавты, то "Правда" вряд ли назвала их землянами. Но это так, между прочим. Как бы то ни было, достижения космонавтов и того гигантского коллектива ученых, инженеров и техников, который сделал возможным блестящую операцию трех смельчаков, останется навсегда одним из величайших триумфов человеческого или, скажем, землянского разума. Все это верно, но мне хочется все же влить небольшую ложку дегтя в ту медовую бочку технического экстаза, которая разлилась теперь по всему земному шару. Сделаю я это не в форме утверждений, а в форме вопросов. И буду счастлив, если кого-нибудь из моих слушателей эти вопросы наведут на раздумья такого же рода, какие нашли на меня в эти дни. Так вот: так ли в действительности революционно достижение Хьюстоновского вычислительного и командного центра? Представляет ли оно собой принципиально новый шаг в деле освоения природы, или же при условии наличия ЭВМ успешное прилунение есть просто логическое продолжение предыдущих экскурсий в космическое пространство - и советских и американских? Поняли ли ученые в результате полета что-то принципиально новое в области строения мира? Не самое ли главное и для ученого и для рядового человека - сохранить чувство тайны, безбрежности и бездонности этого океана? Все равно как его ни называть - Богом ли, природой ли, непостижимым ли? Не склонны ли мы все теперь думать, что полет на Луну и прилунение открыло нам тайны этого океана? Не склонны ли мы вообще жертвовать философией в угоду физике? Разве мы хоть на одну йоту приблизились, например, к пониманию тайны смерти? И не есть ли факт смерти, ожидающий каждого их нас, одна из главных или даже самая главная тайна ньютоновского океана? Иван Толстой: Полвека в эфире. Продолжаем передачу. 69-й год. Его основные события. Диктор (Павел Булыгин): Несколько террористических групп на Ближнем Востоке объединяются в Организацию Освобождения Палестины. Их лидером становится Ясир Арафат. Вооруженный конфликт на советско-китайской границе. Спор идет о принадлежности острова, который советская сторона называет Даманский, китайская - Ченпао. 931 советский гражданин эмигрирует в Соединенные Штаты. Президентом Франции выбран Жорж Помпиду. Многочисленные марши протеста против войны во Вьетнаме проходят по городам Соединенных Штатов. В Вашингтоне собираются 250 тысяч участников. Астронавты Нейл Армстронг и Эдвин Олдрин ступают на поверхность Луны. Их прогулка продолжается 2 часа 21 минуту. Музыкальный фестиваль в Вудстоке (штат Нью-Йорк) собирает около 400 тысяч зрителей. Все дороги на 30 километров вокруг парализованы. В течение 2-х дней перед собравшимися выступают музыкальные звезды: Jefferson Airplane, Crosby, Creedence, The Who, Джанис Джоплин, Джими Хендрикс. Портрет Владимира Набокова на обложке журнала "Тайм" - в связи с выходом романа "Ада". По всему музыкальному миру проносятся слухи о необъявленной смерти Пола Маккартни. Поклонники находят доказательства в некоторых странных звуках на пластинках Битлз, в особенностях одежды Маккартни на фотографиях, и так далее. Александр Солженицын исключен из Союза Писателей. Андрей Амальрик публикует на Западе свое эссе "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?" Нобелевская премия по литературе присуждается Сэмюэлу Беккету. Тур Хейердал отправляется на папирусной лодке от берегов Северной Африки к Барбадосу. На экраны выходят "Сатирикон" Федерико Феллини, "Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?" Сиднея Поллака. Умирают архитектор Мис ван дер Роэ, философ Теодор Адорно, прозаик Макс Истмен. В эмиграции уходят из жизни поэт Борис Божнев, прозаики Иван Новгород-Северский и Николай Нароков, издатель Абрам Гукасов. По всему миру ставят американскую рок-оперу "Hair". Иван Толстой: "Hair". Ставят эту рок-оперу и в Париже. В нашем архиве на эту тему сохранился комментарий. Удивительнее всего, кто его автор. Георгий Адамович. Георгий Адамович: В Париже только что поставлена американская музыкальная комедия "Hair", по-русски "Волосы" или, если угодно, "Шевелюра". Дать один единственно точный перевод невозможно. И, вероятно, оттого на французских афишах и в программах сохранено оригинальное английское название. Представление это не похоже ни на какое другое. Ничего подобного Париж до сих пор не видел. В Нью-Йорке и Лондоне "Hair" идет уже больше года, при неизменно переполненных залах и, конечно, будет идти еще долго. Необычайный успех этого представления тем более достоин внимания, что в труппе из 50 человек нет ни одного профессионального артиста. Участники спектакля выбраны по конкурсу, на который, например, в Париже явилось более двух тысяч юношей и девушек. Объяснить же этот успех, повторяю, необычайный, приходится не одной какой-нибудь причиной, а несколькими. Главная из них, вероятно, та, что "Hair" явно находит отклик во все шире распространяющихся настроениях западной молодежи. Правда, не всей молодежи. А лишь меньшинства ее. Но меньшинства активного, шумного, заставляющего о себе говорить и увлекающего за собой сверстников. Даже таких, которые лет через 10-20 превратятся в самых заурядных обывателей. Чего это меньшинство хочет, чего оно ищет? Освобождения от всех условностей. Новизны во что бы то ни стало. Пересмотра установленных ценностей или даже отказа от них. Во всех без исключения областях. Словом, разрушения культуры, будто бы насквозь прогнившей. А иногда и возвращения к истокам истории, когда голый человек стоял на голой земле. "Hair" в этом смысле - зрелище истинно дикарское. И если юные зрители приходят от него в экстатический, неудержимый восторг - кричат, топают ногами, вскакивают на подмостки - то едва ли такое же действие производит оно на их отцов и матерей, которых, кстати сказать, в зале немало. Иван Толстой: Остаемся во Франции. Марк Слоним. Воспоминания об Альбере Камю. Марк Слоним: Я впервые встретил Камю летом 1947 года на другой день после моего приезда в Париж из Северной Америки. Он только что выпустил роман "Чума", и по этому случаю в великолепных салонах издательства "Галлимар" был устроен торжественный прием. Камю стоял в углу, окруженный толпой журналистов, поклонниц и собратьев по перу. Когда меня подвели к нему, я, прежде всего, разглядел очень умные и немного грустные глаза на утомленном лице и большой лоб мыслителя. Во всей его худощавой фигуре, его нервных руках с узкими пальцами, во всем его облике молодого интеллигента, ему тогда исполнилось 34 года, было странное сочетание силы и нежности, почти болезненности. Вероятно, одна из самых интересных бесед моих с Камю состоялась в 1951 году. Я спросил, считает ли он себя гуманистом. Он взволнованно ответил, что гуманизм, ставящий во главе Вселенной человека, - это устарелый антропоцентризм, пережиток средневековья. Не видеть, что мы находимся во вселенной и подчинены ее ритму и ее строю, значит игнорировать законы бытия. А приписывать нашу логику и наш ограниченный рационализм объективному миру и думать, что жизнь следует механическим правилам материализма, приводит лишь к утрате духовной свободы и множеству роковых ошибок. Вот почему все восторженные восклицания о советском гуманизме - или лживый обман или, в лучшем случае, бессознательная иллюзия. Хорош гуманизм, во имя которого расстреливают противников и строят тюрьмы и каторжные лагеря. Подлинный гуманизм невозможен без сострадания и милосердия. И в то же время он считается с границами наших возможностей и нашим положением в космосе. Именно во время этой беседы я в первый раз услышал формулу, которую потом Камю неоднократно повторял в своей полемике с коммунистами, обвиняя их в неискренности и утаивании правды. "Тоталитарный режим - это, прежде всего, власть одной партии и уничтожение всякой оппозиции и инакомыслия. И ни одно из зол, которое он претендует излечить, не столь плохо, как он сам". (Звучит чей-то свист со старой пленки) Иван Толстой: Этот свист непростой. Это позывные подпольной французской радиостанции "Радио Родина", действовавшей во время нацистской оккупации. Мелодию насвистывал актер Клод Дофэн. (Свист продолжается) Иван Толстой: После войны на эту мелодию были написаны и слова, их авторы - Морис Дрюон и Жозеф Кессель. В августе 69-го отмечалось 25 лет со дня освобождения Парижа. Песню французских партизан поет Ив Монтан. (Поет Ив Монтан) Иван Толстой: 69-й год. Литература и идеология. Под Москвой умирает Корней Чуковский. С поминальным словом из Лондона Виктор Франк. Виктор Франк: Хитрый был человек. Хитрый, добрый и обаятельный. Мне довелось с ним встретиться и беседовать лет семь тому назад в Англии, кода он приезжал для получения почетного звания доктора литературы в Оксфордском университете. Помню, как в знаменитом Шелдоновском театре, то есть, в большой аудитории, он стоял в проходе уже в академической мантии и с докторским беретом на голове, который то и дело сползал то на его лоб, то на его затылок. Помню, как он пытался его удержать на полагающемся ему месте и как он подмигивал своим друзьям и поклонникам. Помню, как он с юмористическим долготерпением выстоял длинную речь по латыни, в которой университетский оратор перечислял его произведения, в том числе "Крокодила". Помню, как он потом говорил, как научился новому латинскому слову - "крокодила". А то он думал, что это у нас в частушках революционного времени по необразованности распевали: "По улицам ходила большая крокодила". А, оказывается, это латинское влияние. За всем этим балагурством, приправленным огромным инстинктивным шармом, в Чуковском чувствовалось нечто неизмеримо более важное - огромная старая культура, впитавшаяся в его кровь и плоть. Причем, обладание этой культурой не было для Чуковского поводом для нарциссического самолюбования и самозамыкания. Он щедро излучал эту культуру, делился ею со всеми собеседниками, какого бы возраста, образования, национальности они ни были. И ведь не даром Чуковский отдал столько труда, столько любви детям. Говорят, что в молодости, в его петербургской молодости он был человеком очень задорным и кусачим. Но жизнь, тяжкая, трагическая жизнь, выпавшая на долю всех людей, вступивших в революцию взрослыми, его не ожесточила, не превратила в циника, а наоборот, смягчила и сделала его человеком доброй воли. А ведь жизнь основательно его потрепала. И семьи его коснулась, и его самого. Одним из немногих переделкинцев он не отступился от Пастернака в тяжелые для последнего месяцы и годы. А когда совсем уже недавно пришлось туго Солженицыну, оставшемуся и без крова, и без заработка, то Чуковский, говорят, приютил его у себя, в том же Переделкино. Иван Толстой: Два солженицынских романа одновременно - "Раковый корпус" и "В круге первом" - поглавно, в течение многих месяцев, звучат на волнах Свободы. Оказывается, что Александр Солженицын наше радио слушает и, по крайней мере, чтение "Ракового корпуса" - в исполнении Юрия Мельникова - одобряет. Юрий Мельников:
- Слушайте, товарищ, - шептал безголосый с Демкиной кровати, - вы начали насчет березового гриба...
Иван Толстой: 69-й год. Литература и идеология. Еще одно чтение, на этот раз авторское. Начало новых воспоминаний - "Только один год" - в исполнении дочери Сталина Светланы Аллилуевой. Светлана Аллилуева: Я не думала 19 декабря 1966 года, что это будет мой последний день в Москве и в России. И уж, конечно, этого не предполагали мой сын Ося, его жена Леночка, моя Катя и никто из друзей, зашедших в этот день повидать меня перед отъездом. День был очень холодным. Мороз 15 градусов по Цельсию к вечеру дошел до 20. Шел снег. Началась метель. Самолет должен был вылететь из аэропорта Шереметьево в 1 час ночи, но, сколько я ни звонила к диспетчеру, никто толком не знал, будет ли летной такая погода. Казалось, что Москва не хотела отпускать меня. Друзья и знакомые звонили и спрашивали: правда ли, правда, что ты сегодня улетаешь. И я в сотый раз повторяла им одно и то же. Это было действительно невероятным, что мне разрешили отвезти в Индию прах покойного мужа. Поэтому многие не могли никак поверить, что я действительно улечу сегодня ночью. Это была моя первая поездка за границу, не считая 10 дней проведенных летом 1947 года в гостях у брата, стоявшего с авиационным корпусом в Восточной Германии. Мне самой было как-то очень странно, хотя разрешение было получено уже месяц тому назад, и за это время я могла бы спокойно собраться, но я все еще не уложила занятый у приятельницы чемодан, плохо соображая, какую погоду встречу в Дели и что там носить. Второй чемоданчик, поменьше, был готов. Там были многочисленные подарки индийским родственникам: мне объяснили, что без этого нельзя ехать, а также подарки от индийского филолога доктора Бахри для его семьи в Элаллабаде. Меня больше всего беспокоил саквояж, где находилась белая сумка поменьше, а в ней - небольшая фарфоровая урна с прахом. Я долго мучилась, не зная, как я повезу ее. Мне давали разные советы, но я чувствовала только, что должна держать ее где-то возле себя, рядом. Это было что-то почти живое, она казалась мне очень тяжелой. Она казалась мне очень тяжелой. Это была некая таинственная часть меня самой. Иван Толстой: Тему литература и идеология повернем немного иначе: идеология и кино. На Каннском фестивале в 69-м году показан фильм Андрея Тарковского "Андрей Рублев", в Советском Союзе все еще запрещенный. Рассказывает свободовский киновед, еще один невозвращенец 60-х годов Владимир Матусевич. Владимир Матусевич: Когда три с половиной года тому назад фильм был запрещен, самые бывалые, самые тертые калачи в кинематографических кругах диву давались - почему, за что? Фильм о средневековой Руси, решительно никаких намеков или возможностей сопоставления с сегодняшним Советским Союзом в нем не содержится, никаких таких формальных новаций, могущих раздразнить партийно-чиновную братию тоже не заметно. А у братии этой, надо отдать должное, нюх развит отлично. И они заметили, не могли не заметить того неукротимого бунтарства, той беззаветной смелости мыслей и чувствований, что является признаком всякого подлинно выдающегося произведения искусства и, по большому счету, определяют сущность фильма "Андрей Рублев". "Андрей Рублев" состоит как бы из ряда новелл, каждая из которых являет собой нечто завершенное в своем роде, и которые вместе с тем в совокупности образуют нераздельное целое, звуча вариациями одной и той же темы, сливаясь в могучем полифоническом хорале. Это гимн русскому народу. Гимн, пропитанный горечью, гневом и болью. Гимн, в котором нет пустозвонной и благостной торжественности, сусально-квасного патриотизма и фальшивой умиленности, какие были, скажем, в "Александре Невском" Эйзенштейна или "Минине и Пожарском" Пудовкина. Но есть ярость, есть иступленный протест против всех и всяческих античеловечных сил истории, обрекавших и обрекающих великий народ на пассивно-рабское долготерпение. Страшный фильм. Жестокий. И прекрасный. |
||||||||||||||||||